-
Егэ сочинение по русскому языку по тексту:
Его соседи по госпиталю получали письма и читали их вслух, а Власову никто не писал, и ему было так скучно, что он даже удивлялся, что может быть на свете такая скука. С каждым днём ему становилось всё хуже. Бледный, с заострившимся носом, он лежал, отвернувшись к стене, и ему было всё равно, о чём говорят, волнуются, спорят соседи. И вдруг он получил письмо. Это был обыкновенный лист бумаги, сложенный треугольником, и на обороте, как полагается, полный адрес с именем, отчеством и фамилией. «Мне захотелось написать тебе, милый Федя, — так начиналось это письмо, — хотя ты, без сомнений, давно забыл обо мне, поскольку мы в жизни встретились только однажды. Но, узнав, что ты ранен, я надеюсь, что ты не слишком строго осудишь меня за это письмо...» А кончалось письмо на полуфразе: «Во всяком случае, знай, что я о тебе думаю, и даже чаще, чем...» Он читал письмо целый день, перебрал всех знакомых девушек и прежде всего, понятно, вспомнил о той, с которой он дружил до войны. Но это была не она, хотя бы потому, что с ней он встречался не однажды. Прошло несколько дней, и он получил второе письмо. «Мне известно всё от одной подруги, которая видит тебя каждый день, — писала незнакомка. — И она сказала мне, что от тебя самого зависит твоё здоровье». Далыне шли советы, большей частью медицинского свойства, а потом стихи, очень хорошие, об одной девушке, ждущей бойца, который пропал без вести. Это было поразительно! Но кто же видит его каждый день? В тридцатой палате дежурили две сестры — Мария Пантелеймоновна и Луша. Мария Пантелеймоновна была рыжая, длинная, в очках, немного похожая на швабру палкой вниз, особенно когда она ругала кого-нибудь после обхода. Луша была, наоборот, маленькая, толстая, смешливая, целый день носилась по госпиталю в развевающемся халате, и то здесь, то там слышались её топот и хохот. Но Власову было бы даже немного жаль, если бы этой подругой оказалась она. Письма были таинственные, необыкновенные, а Луша — просто Луша. С волнением, с душевной тревогой он стал ожидать новых писем, а главное, послушался насчёт своего здоровья. Прежде он мало ел, а теперь стал понемногу есть, с вечера постарался уснуть — и ничего, получилось. Пришло третье письмо: как по книге, эта девушка-незнакомка прочитала всё, что творилось в его душе, всё,-о чём он мечтал и что казалось ему потерянным навсегда, невозвратно. Всё ещё впереди — вот что она хотела сказать! Нужно жить, потому что всё впереди. Нужно сделать всё, чтобы снова стоять на боевом корабле в этот торжественный час. И нужно не отступать перед тоской, перед смертью, о которой кричат по ночам галки в саду, нужно не отступать, как он не отступал на фронте... Точно что-то перевернулось в его душе, когда он прочитал это письмо. И доктор, который прежде всё хмурился, осматривая его, был теперь совершенно доволен. — Кто его знает! — сказал он как-то, смеясь. — Ведь ты же умирал, Власов. В чём дело, а? 3агадка природы? Но вдруг перестали приходить эти чудные письма. А вместе с письмами пропала и Луша. Он спросил у одной сиделки, где она, почему не приходит, и сиделка сказала, что Луша сильно захворала воспалением лёгких, к ней даже ездил главный врач, и боялись, что она умрёт, но опасность миновала. В госпитале стало скучно без Луши, без её топота и хохота, без её разговора о том и о сём, от которого почему-то становилось легче на сердце... Луша явилась, побледневшая и похудевшая, но, кажется, ещё более весёлая, чем прежде. И на площадке, куда ребята выходили курить, Власов просто схватил её за рукав и спросил негромко: — Так это ты, Лушенька?.. Через неделю Власов пошёл на комиссию, и доктора, осматривая его, снова сказали, что он является чудом и загадкой природы. Разгадка была простая, но он, понятно, не стал её объяснять. Возможно, что для подобного лечения в медицине ещё не было места. (По В. А. Каверину*)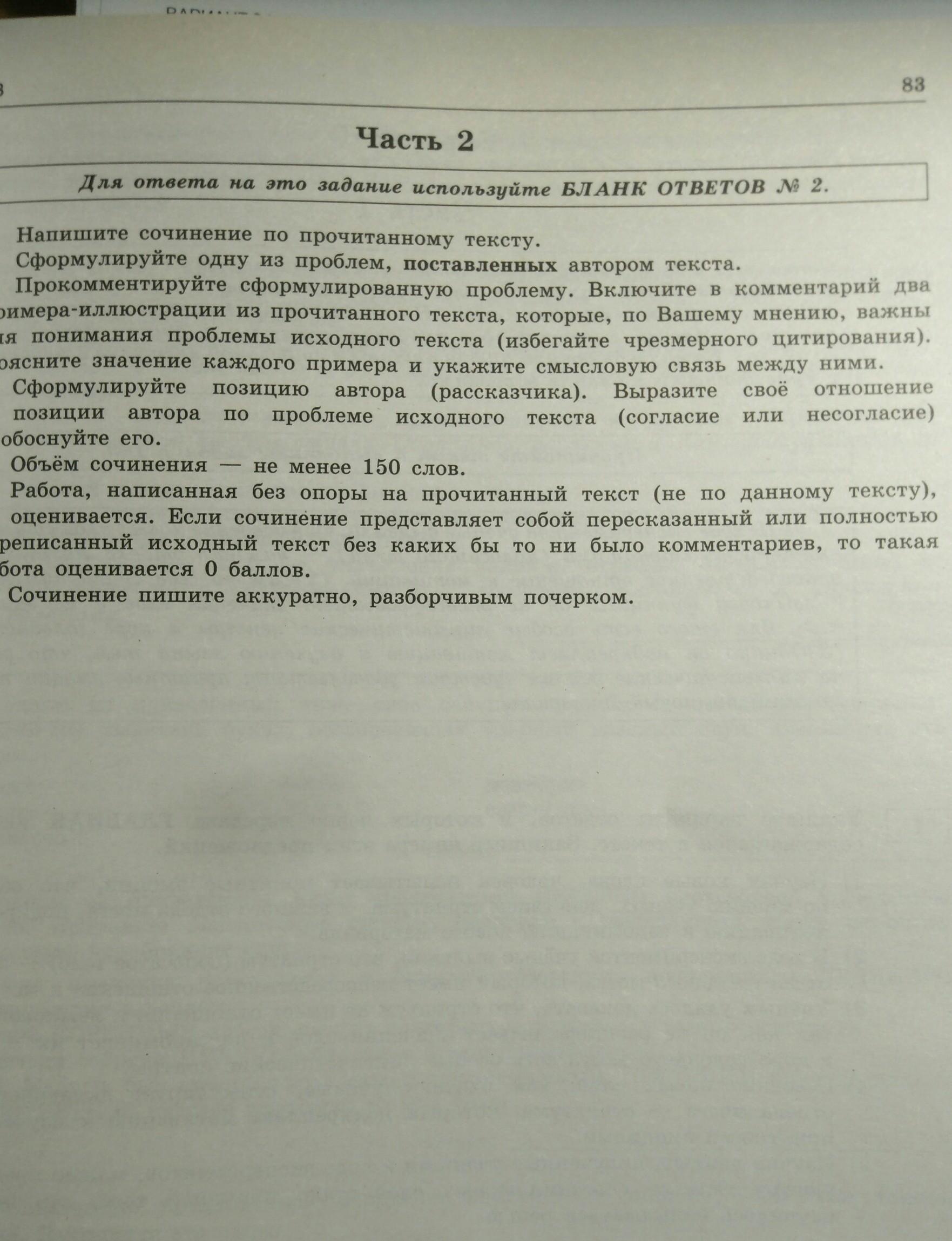
-
Предмет:
Русский язык -
Автор:
averyizq5 - 6 лет назад
-
Ответы 0
-
Добавить свой ответ
Еще вопросы
-
8,1-(3,1-y)=1
9,4+(8,7-x)=0,1
-
Предмет:
Математика -
Автор:
wesley - 6 лет назад
-
Ответов:
1 -
Смотреть
-
-
ФИ
Класс
1 вариант
1. Определите по чертежу название элементов окруасности, запоште Tab ЛІЦу.
Название
Обозначение
11 утск
CE
MNT
2. Постройте круговую диаграмму по следующим данным,
Распределение мирового
парка легковых автомобилей-
Предмет:
Математика -
Автор:
baltasar - 6 лет назад
-
Ответов:
0 -
Смотреть
-
-
Ширина прямоугольного параллепипеда равна 8 см что состовляет[tex]\frac{8}{15}[/tex] его длины а высота состовляет 40% длины.Вычеслите объем параллепипеда.
СРОЧНО ПЖ-
Предмет:
Математика -
Автор:
terminator3yrw - 6 лет назад
-
Ответов:
0 -
Смотреть
-
-
чому ідея із серенадою провалилась творі вітька+галька . невже в наш час романтика вже не в моді
-
Предмет:
Українська література -
Автор:
darionchurch - 6 лет назад
-
Ответов:
2 -
Смотреть
-
How much to ban the user?
1 hour
1 day
100 years
